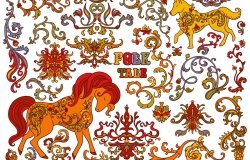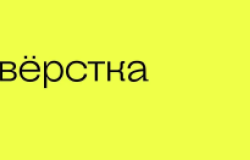A blog of the Kennan Institute
Башня в футляре
Марк Андрианов — о том, почему российский академический истеблишмент поддержал войну

Российскую науку, как и любое академическое сообщество, принято метафорически называть «башней из слоновой кости». Несмотря на то что у россиян есть все основания предполагать, что в их стране башня, как и многое другое, сделана из несколько иных материалов, последние годы вскрыли другую застарелую проблему — готовность немалого количества ученых, руководствующихся правилами жизни премудрого пескаря, тихо молчать или даже поддакивать любому всаднику Апокалипсиса, который предъявит необходимую корочку.
«Мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери», — призывает к применению ядерного оружия повелитель дум, «влиятельный теневой политик», а заодно и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ. «Их (…) задача — (…) разорвать [общество] на множество клочков и фрагментов, заставить эти фрагменты искренне ненавидеть друг друга, (…) объединить их агрессию в единый поток (…) против действующей власти», — пишет в научной (!) статье доктор наук и непременный профессор, на каждом углу позиционирующий себя как тайный агент всевозможных спецслужб. Если вы, следуя перефразированному завету профессора Преображенского, предпочитали не читать до обеда труды российских ученых, то выше — доказательство того, что не надо делать этого и впредь. Ведь здесь «эксперты» и «специалисты», обильно вооружившись должностями и корочками, разглагольствуют о «социально-энергетических подходах», «цветных революциях», «слаженном движении государственных достояний», «нооскопах» и «программных киберсимулякрах», хотя, конечно, излюбленные сюжеты — бесконечная защита суверенитета, очередной виток «гибридно-культурно-ценностно-цивилизационной войны» или новая конфигурация неминуемо «особого пути».
Российская наука и до войны находилась в весьма печальном положении, будучи погребенной под стараниями казенной бюрократии производить впечатление великой научной державы. Пестуя знакомые мифы о собственной исключительности и благонравном влиянии тотемной государственной монополии на общественные нравы, академия нисколько не приближалась к желанному статусу «башни из слоновой кости», а, скорее, оставалась в роли своеобразного «публичного дома», в который политики и чиновники заходили с деньгами, а выходили со степенями. Может показаться, что такое положение сформировалось только в области социальных дисциплин, — пока на ум не приходит история ректора Горного университета (и по совместительству, после защит уважаемых товарищей, долларового миллиардера) или приключение в духе Салтыкова-Щедрина, когда высшие позиции в научной иерархии Курчатовского института и физфака СПбГУ занял человек, публичные высказывания которого до сих пор склонны превращаться в повод для заслуженных насмешек.
Словом, положение научного сообщества напоминало то ли стремительно пропадающий калабуховский дом, то ли отдающее гнильцой «датское королевство». Война забила последний гвоздь в этот выбор из двух зол.
Метафора гвоздя здесь вдвойне уместна именно по причине главной реакции академического сообщества на очевидно катастрофический поворот национальной истории — этой реакцией стало гробовое молчание. Людей, искренне поддерживающих путинский «магический милитаризм», в российских университетах практически нет, но героическое подвижничество отдельных преподавателей, исторически вытаскивающее академию из привычного для нее болота, нисколько не отменяет полного государственного контроля за высшим образованием, превращающего последнее в оплот редкостного угодничества. И главным сигналом, поступившим по линии этого угодничества, было требование молчать. Не выступать. Не подписывать. Не лезть на рожон. Не вспоминать 353-ю статью Уголовного кодекса. Не цитировать определение агрессии, утвержденное Генеральной Ассамблеей ООН в середине семидесятых.
Это молчание было бы легко объяснить страхом, ведь в военное время это чувство переживается острее даже тогда, когда ты не находишься на фронте, — но ведь молчание было главной линией поведения российских ученых и при разгроме Академии наук (оформленном как ее реформа), и при разнообразных экспериментах наподобие кафедры теологии в НИЯУ МИФИ. Конкретно у этого молчания университетских ягнят куда больше причин.
Главная из них — удивительный оппортунизм академического истеблишмента, уже дважды пережившего поражающее воображение переобувание в воздухе: первое случилось, когда были низвергнуты идолы «научного коммунизма» и «марксизма-ленинизма», а второе — существенно позднее, когда люди, в 1990-х спасенные и издававшие книги при помощи зарубежных фондов, стали на каждом углу проклинать Джорджа Сороса, будто несмешные кукольные пародии на Виктора Орбана. Ученые привыкли адаптироваться и мимикрировать — быть может, в этом есть след не только постсоветских кульбитов, но и советской привычки к демонстрации собственной «нормальности». Посредством ритуального голосования на партсобраниях, как указывал Алексей Юрчак, их «участники воспроизводили себя как «нормальных» советских субъектов, вписанных в существующую систему норм, отношений и позиций, со всеми ограничениями и возможностями, следующими из этого»; так и российское интеллектуальное сообщество, желая сохранить имеющиеся возможности и существующую систему, демонстрирует высочайшую готовность принятия вообще всего, что будет предложено сверху. Те, кто сейчас поражается предложению г-на Караганова нанести по кому-нибудь ядерный удар, вспомните, неужели вы могли представить, что российские ученые, как в песне «Несчастного случая», будут аплодировать братской войне? Неужели в свое время вы считали, что эти люди выступят в поддержку четвертого срока и станут добровольными апологетами, а то и соучастниками электоральных фальсификаций? Партия сказала: «Надо!» — комсомол ответил: «Есть!»; к сожалению, у многих людей, считающихся в России выдающимися учеными, с советских времен не было ничего, кроме коротких вээлкаэсэмовских штанишек.
Вторая причина — общий для страны жестокий контраст между желаемой (или, во всяком случае, заслуживаемой) реальностью и суровой действительностью, то, что мудрый американский профессор Тед Гарр называл «относительной депривацией». Когда-то российское академическое сообщество действительно верило в то, что может достичь нового статуса в современном демократическом государстве; потом, однако, оказалось, что и государство постепенно сбрасывает с себя демократический фасад, и современность сменяется пародией на обрывочные воспоминания о Союзе. Свойственное прежним временам особое положение интеллектуалов, однако, возвращаться не спешило, а взаимодействие с зарубежными коллегами показало, что для равноправного партнерства с ними требуется долгая и кропотливая работа. Редкие примеры ВШЭ, Европейского университета или «Шанинки» казались академическим старцам подлинной дискредитацией и оскорблением их величия, ведь им хотелось, чтобы старое вино просто разлилось по новым мехам и произошел бы условный «взаимозачет» прежнего молчалинского выслуживания на некий современный эквивалент. К отсутствию этого академия оказалась не готова, и, когда на горизонте обозначилась пусть сомнительная, но все-таки привлекательная сделка «привилегии в обмен на лояльность», университетские иерархи с готовностью пошли на этот договор. Они получили бесконечное продление собственных полномочий, большие ресурсы, которыми могли распоряжаться по собственному усмотрению, — но все равно это не было теми величественными замками Хогвартса и Староместа, которых требовало чувство собственной важности. Именно поэтому многие руководители вполне искренне откликнулись на призыв поддержать войну: им казалось, что «голос истории» так возвещает им о возвращении их призвания, подлинно веберовского Beruf. В жизнь людей, заставших строительство коммунизма, возвращался «большой нарратив», и часть академического сообщества стала его пленниками вполне охотно и по своей, пусть и травмированной, воле.
Наконец, не стоит забывать и о том, что адекватному принятию действительности — и адекватному поведению в рамках этой действительности — мешает сама организация российского образования, превращающая «детские болезни» академии в хронические синдромы с далеко идущими последствиями. О тотальной зависимости от государевой благосклонности уже говорилось; что ж, стоит напомнить и о том, насколько геронтократичной и архаичной видится сама организация университетской жизни, копирующая проблемы и недостатки у собственного учредителя — и российской политики вообще. Ректоры совмещают административные и научные полномочия; вузы, факультеты и кафедры напоминают сошедшие со страниц Михельса олигархические пирамиды; защита диссертаций в России все чаще напоминает монолог защищающегося со стеной, ведь многие из членов совета, чей состав совершенно не зависит от тематики диссертации, могут попросту не разбираться в рассматриваемой теме. При этом система продолжает оперировать знакомыми всем понятиями, и в этом кроется ее невидимое могущество: россиян продолжают околдовывать «государственный вуз», «бюджетное место» и «проходной балл», звание профессора или степень доктора наук. Люди, сегодня поддерживающие войну, прикрываясь своими регалиями, в большинстве случаев представляют собой близкую к нулю академическую единицу, — однако, чтобы понять это, нужно внимательнее относиться к статусам и должностям. Характерный пример — статистика цитирования по российской системе РИНЦ. По ее данным, индекс Хирша Григория Голосова, одного из известных российских политологов, в целом составляет 26, а по «ядру» РИНЦ, куда входят наиболее авторитетные журналы и издания, — 19. В то же время индекс такого деятеля, как «практик информационных спецопераций» Андрей Манойло, по РИНЦ в целом составляет 35, но по его «ядру» лишь… 2. У Владимира Гельмана показатели составляют 46 и 21, а вот у другого ревностного пропагандиста Вардана Багдасаряна, автора статьи «Стратегия Александра Невского в контексте цивилизационных трендов тринадцатого столетия», — 29 и… опять же, 2. Еще один пример — недавний репутационный рейтинг российских экономистов, где в топ-10 нет Ениколопова или Трунина, зато присутствуют Глазьев, Делягин и Хазин (с подкрадывающимся к ним Катасоновым).
Без сомнений, и в довоенные годы этот прикидывающийся академией паноптикум должен был пережить серьезные изменения, но случившееся после 2022 года показывает правоту самых радикальных критиков: чтобы примириться с миром и с собой, этому Карфагену прежде всего необходимо пасть.
Публикации проекта отражают исключительно мнение авторов, которое может не совпадать с позицией Института Кеннана или Центра Вильсона.
Подписаться на «Иными словами»
Subscribe to "In Other Words"
About the Author
Mark Andrianov

Kennan Institute
The Kennan Institute is the premier US center for advanced research on Eurasia and the oldest and largest regional program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. The Kennan Institute is committed to improving American understanding of Russia, Ukraine, Central Asia, the South Caucasus, and the surrounding region though research and exchange. Read more